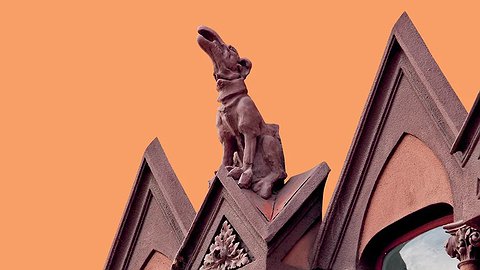В этом году официально ему исполняется 435 лет. Но дата его основания весьма условна, а главные события, которые привели к его взрывному росту, относятся к XIX и XX векам. Впрочем, хочется дать ему шанс и в XXI-м.
О Саратове хорошо думать, сидя на бетоне подпорной стенки дикого пляжа за Речным вокзалом. Купаться здесь запрещено из-за загрязненности воды, народу нет, а Волга колоссальна до невероятности, так что даже не верится, что можно загрязнить так много воды сразу. Масштаб свершений поражает. Вдаль уходит саратовский мост — когда-то самый длинный в Европе (2,8 км), и конец его теряется за горизонтом. Мост из-за аварийного состояния постановили через десять лет разобрать, может, еще передумают, но пока можно предаться меланхолии размышлений о бывших и будущих утратах. Нигде величие России не переживается так остро, как на берегу бескрайней реки, и там же переживаются упущенные возможности. Идеальное место для медитации.
Три года, с 1903-го по 1906-й, губернатором Саратова был Петр Аркадьевич Столыпин, третий премьер-министр России. В 1990-е и 2000-е, когда идея сильной национальной либеральной государственности была в России популярнее, чем теперь, это была культовая фигура русской истории. Тогда восторжествовал солженицынский взгляд на Столыпина — Александр Исаевич считал Столыпина неосуществленной альтернативой развития нашей страны: если бы не его убийство, он бы, по мнению великого писателя, не попустил бы России вступить в Первую мировую и не допустил бы революции.
Саратов, все советское время бывший прежде всего городом Николая Гавриловича Чернышевского (родился и умер здесь), на некоторое время стал городом Петра Аркадьевича Столыпина. В 2002 году сквер около здания областной думы был переименован в площадь имени Столыпина, и на ней был установлен памятник работы самого Вячеслава Клыкова: фигуру премьера окружают крестьянин, кузнец, солдат и поп. В 2022 году проспект Кирова, бывшую Немецкую улицу, переименовали в проспект Столыпина. Правда, проспект Столыпина не приходит на площадь Столыпина — до нее надо пройти по улице Радищева и перейти через площадь Чернышевского. И хотя Столыпина вряд ли бы порадовал столь революционный путь, но идти недалеко. Хочу сказать, что я одобряю и поддерживаю. Несмотря на краткость пребывания Столыпина в кресле губернатора, его фигура выступает как олицетворение надежды — на то, что могло бы осуществится, но нет. И это полностью соответствует духу города.
Саратов мог бы быть тем, что называется великим городом, хотя бы благодаря разнообразным связанным с ним великим людям. Это очень образованный город, в нем очень достойный и заслуженный университет, десяток гражданских и три военных ВУЗа, в нем есть своя великолепная дореволюционная консерватория, в нем прекрасные музеи, театры — редкий российский город располагает таким богатством. Но всего, что почти автоматически следует из такого урбанистического профиля, — высоких доходов, разнообразия занятий, активного населения, общественных движений, ну или, если не сбиваться на урбанистический сленг, то просто яркости и остроты жизни,— в этом городе скорее не наблюдается. Или, может быть, я не почувствовал.
Во всяком случае, вызову Волги город не соответствует. Почти вся береговая линия представляет собой более или менее гниющую помойку брошенных промзон, и выйти из города к реке — это до известной степени проблема. Нет, пролезть через склады, гаражи и лабазы в принципе можно, но чтобы великая река была частью градостроительной композиции,— этого нет.
Я некоторое время считал, что это яркая демонстрация последствий большой градостроительной ошибки. Дело не в хозяйстве, не в политике, не в интригах истории, а именно в ошибке архитекторов, а это бывает настолько редко, что я, пожалуй, затрудняюсь назвать другие такие же примеры. Историческая часть Саратова представляет собой в плане почти равнобедренный треугольник с основанием, положенным на берег Волги. При этом внутри прямоугольные кварталы образуются улицами, идущими крест-накрест параллельно бедрам, и к Волге они выходят острыми углами кварталов, зубьями. Там, где должна была бы быть набережная, связывающая город с рекой, получилась пила острых углов, городские зады. Территория этих задов занималась складами, хозяйственными причалами, потом заводами, все это уже вне регулярной застройки — и вместо парадной набережной образовалась рваная, захламленная промзона, как опилки от этой пилы.
Причем если смотреть на этот план, забыв про реку, то нельзя не признать, что он вообще-то очень эффектен. Редкий русский город может похвастаться таким безукоризненным регулярным планом. Это так качественно нарисовано, что в 1950 году, когда принимался новый генеральный план города, сталинские архитекторы не изменили в центральной части ничего, ни одной улицы, полностью включив в свою работу генплан 1812 года. Довольно редкий случай в России. Они, правда, попытались как-то решить проблему Волги и начали строить на высоком берегу пятиэтажные кварталы. Так получился фрагмент цивилизованного берега — нынешняя набережная Космонавтов. Но надолго их не хватило, это всего 800 м против пяти с лишним километров береговой линии только в историческом городе. Уже в постсоветское время вдоль реки проложили дорогу, которая называется Набережная улица, она теперь прилично благоустроена лавочками, фонарями и даже площадками для воркаута, но это удивительная улица. На ней нет ни одного дома, с одной стороны — заборы промзон, кое-где оформленные чем-то вроде бамбука, с другой — река за подпорной стенкой. Прекрасное место для прогулок.
И вот, сидя на бетонном парапете дикого пляжа у саратовского моста, я мысленно ругал безымянного архитектора императора Александра I, который нарисовал этот план, пожертвовав связью города с рекой ради формальной красоты композиции, пока вдруг не сообразил, как же я не прав. Реки здесь не было. В 1950-е, после строительства волжского каскада гидростанций, тут разлилось море. Уровень воды повысился минимум на семь метров, а в паводок поднимается на все двадцать, и так образовалось гигантское саратовское море. А до этого ширина реки тут была метров 50, а не 3 км, как сегодня. Поэтому тогда Волгу никто и не думал включать в городское пространство. Это не Нева в Петербурге, где гладь воды является главной городской площадью, это была скромная приличная речка, а город стоял отдельно, на высоком берегу, отступив от нее и вовсе не имея ее в виду.
Правильность города определяется краткостью его истории. Формально он основан в 1590 году, и от этой даты отсчитываются все городские юбилеи, но это совсем условная дата. С одной стороны, раньше здесь был один из больших городов Золотой Орды — Укака, как называет его Марко Поло, или Укек, либо Увек, существовавший с начала XIII века до нашествия Тамерлана в 1395-м. Впрочем еще в течение века город как-то доживал. Он находился южнее нынешнего центра, теперь от него осталось Укекское городище на пустыре в Заводском районе.
Где основали город, точнее, крепость в 1590-м, неизвестно — ее пока не нашли. В 1670 году она была уничтожена Степаном Разиным, в 1674-м Алексей Михайлович повелел строить «новый город» на нынешнем месте. От этого города, который основал стрелецкий полковник Александр Шель, не осталось ничего, однако он нарисовал первоначальный треугольник на нынешней Музейной площади, из которого потом выросла композиция александровских архитекторов. Город был деревянным и в течении XVIII века пять раз сгорал дотла. Последний пожар случился 13 мая 1774 года, и после него от Саратова, по свидетельству Гавриила Романовича Державина, пытавшегося организовать оборону от Емельяна Пугачева, осталось «единственное наименование города». 6 августа 1774-го город был Пугачевым взят.
Первые 100 лет существования русского Саратова не оставили по себе в городе следов, так же как и предшествующие 400 лет ордынской Укаки, и это много говорит о характере поселения. Это место с богатой историей, от которой ничего не остается, нечто более вписанное в «Великую степь» Льва Гумилева, чем в европейскую Россию.
В XVIII веке Москва пытается выстроить здесь форпост в диких землях, но его раз за разом разоряют разбойники и кочевники и сжигают дотла. Даже у Екатерины II, при всем величии ее государственного ума, до самого города не дошли руки — план его застройки составляли уже при Александре, с 1803 по 1810 год, а приняли в 1812-м. И в самом этом плане, как мне кажется, ощутим опыт того существования, который накопился за столетие. Этот город не хочет раскрываться ни на Волгу, ни в окружающие его степи, он хочет замкнуться в себе. Это оплот четкой рациональности в окружающем бескрайнем хаосе.
Екатерина II, однако, сделала самый значимый шаг в истории Саратова: она поселила здесь немецких колонистов. Их количество трудно оценить. Мы понимаем стартовые и итоговые цифры. Саратовская контора иностранных поселенцев в 1766 году насчитывала их 26 тыс., а когда 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья, то в Коми, Казахстан, Сибирь и на Алтай было депортировано 950 тыс. человек. Не все они были из Саратова, хотя столица АССР НП была в городе Энгельс, напротив Саратова — туда и ведет некогда самый длинный в Европе мост. Но так или иначе, они принесли сюда другую цивилизацию.
Главной проблемой форпоста России во «внутренней колонизации» этих мест было отсутствие цивилизованного населения — земледельцев, ремесленников, торговцев. Екатерина решила проблему — население появилось, а помимо немцев она также разрешила свободно селиться на этой территории раскольникам, а потом Александр отправлял сюда же пленных французов после войны 1812 года. Не то чтобы уровень принесенной ими трудовой и хозяйственной культуры, протестантской и староверческой этики был принципиально выше того, что имелся в России. Но он был принципиально выше того, что имелось в волжских степях. Взять хотя бы то, что в Саратове именно немцы стали строить первые каменные дома. Вместо военного форпоста против кочевников и разбойников появился своеобразный фронтир.
По сути, это редкая для России форма так называемой «второй колонизации». Первая, раннеимперская, предполагает присоединение новых государств, но не перемещение собственного населения. Поселяются только военные гарнизоны, да и управление обычно сводится к тому, что местные цари, князья и ханы попадают в вассальные отношения и платят ясак в казну. Не меняются ни способ управления, ни образ жизни, ни тип хозяйствования. У нас большой опыт такой колонизации, перенятый от монголов. Практически вся территория Российской империи колонизировалась именно так — никто не основывал русских поселений ни в Грузии, ни в Узбекистане. «Вторая колонизация», более характерная для Европы в Новое время, отличается принципиально — это освоение новых земель для собственных граждан, причем часто (хотя не всегда) — свободных граждан, не заключенных и не пораженных в правах. Россия редко в этом нуждалась, у нее всегда было много земли, но вот Екатерина прибегла именно к этому опыту. Пример прежде всего США, но также и Австралии, и Новой Зеландии, и голландских колоний показывает, что дальше дела идут довольно интересно. Сначала не происходит примерно ничего — новые земли оказываются дальней периферией, хотя и поддерживающей уровень цивилизации метрополии, но на минимальном уровне. А потом происходит своего рода взрыв.
Саратов не был оккупирован в войну, и его центральная часть сравнительно мало пострадала от бомбежек. Она осталась в значительной части дореволюционной, здесь нет ампирного центра, сталинские дома наличествуют штучно. Из крупных ансамблей — только прекрасный Парк культуры и отдыха. И в целом здесь легче, чем, скажем, в Новгороде или Пскове, представить, каким был русский провинциальный город XIX века, в котором регулярность планировки дополняется живописным разнобоем застройки.
За исключением нескольких административных зданий эпохи классицизма — Присутственных мест, Дворянского собрания, саратовской гимназии, где преподавал Чернышевский, весьма достойных, но и не особенно выдающихся, это был город частных одно- или двухэтажных домов, каменных и деревянных, поставленных с разрывами, в которых проглядывают дворы с садами и сараями. Сегодня эта немного пыльная идиллия тут и там разрушена вживленными в ткань города советскими коробками 1960–1970-х. Но так везде: что в Ярославле, что в арбатских переулках в Москве.
Если посмотреть на одну из главных саратовских улиц — Московскую, приобретшую свой вид раньше других, примерно в середине XIX века, то она напоминает старые фотографии Мещанских улиц в столице. Те же немного вросшие в асфальт купеческие дома, лавки на первом этаже, квартиры на втором, скромная эклектика фасадов, подворотни во дворы — все как у людей, не жалующих Петербург. Причем это богатая улица, и она сравнительно неплохо сохранилась. На соседних советские коробки встречаются чаще, дома выглядят беднее, одноэтажных, деревянных больше, но в целом — примерно то же самое. Отличие саратовских видов от традиционного русского городского пейзажа, пожалуй,— в отсутствии многочисленных церквей и колоколен, который обычно высятся над домами: сказывается более или менее бесследно проведенный XVIII век.
В царствование Александра II, начиная с середины 1860-х, Саратов вдруг принялся стремительно меняться и превращаться в нечто принципиально иное: стартовавшая веком ранее колонизация Поволжья начала давать свои плоды. Так на волжской торговле, море хлеба, рыбы, товаров из Персии и Китая и умении немецкого населения с ними обращаться за 50 лет вырос богатый, преуспевающих город.
Четыре особенности делают его сегодня уникальным. Первая — это мукомольные мельницы: готическая братьев Шмидт, романская Эммануила Бореля, самая высокая в городе — Степашкина, мельницы Богословского, Рейнеке, Скворцова. Это большие заводы, работавшие сплошь по немецкой технологии и на немецком оборудовании, с вертикальным расположением технологической линии, что требовало строительства высотных зданий — от пяти этажей и больше. Все они стояли вдоль берега Волги, как раз в той зоне «пилы», которая образовалась из-за углового расположения кварталов.
Такие мельницы есть и в Самаре, и в Нижнем Новгороде, и в Кинешме, но в Саратове они едва ли не самые выразительные. Все они признаны объектами архитектурного наследия, все давно не работают и медленно превращаются в руины — нет ни одного примера приспособления зданий под другую функцию. Саратов не знает, что с ними делать. Они стоят вдоль Волги, будто ряд готических соборов или призраков исчезнувшей цивилизации.
Вторая особенность Саратова — это доходные дома. Во второй половине XIX — начале XX века центральная часть Саратова преображается, вместо архитектуры русского провинциального города появляется столичная буржуазная застройка. Как записывает в воспоминаниях юрист Иван Славин, «по правую сторону от коммерческого Саратова (если стоять лицом к Волге), за Ново-Соборной площадью по направлению к Ильинской и Митрофановской площадям, представлявшим в первой половине XIX в. пустынную окраину, была расположена часть города, имевшая колорит, совершенно отличный от старого Саратова. Это — Сен-Жермен города. Здесь по Константиновской, Александровской, Аничковской, Дворянской и другим улицам проживало по преимуществу "благородное" сословие, чуждое всяким шумным и хлопотливым торжищам и базарной суете. Здесь обитало дворянство и чиновничество, аристократия, свысока взиравшая на изнывающего в коммерческих хлопотах купца». Центром всего этого богатства стала Немецкая улица. Здесь появляются доходные дома и гостиницы, некоторые из них, скажем дом Арсения Ананьина в стиле модерн (1913, Мечислав Пульман), барочный дом Исаака Левковича (1907, Юрий Терликов), дом Андрея Бендера (1913, Владимир Карпенко), гостиница «Астория» (1914, Семен Каллистратов) — великолепны по архитектуре. Этих домов несколько десятков, все не перечислишь, и они формируют образ того, что называлось «столица Поволжья».
Не только архитектура, но сама типология — многоэтажный доходный дом — свидетельствует о развитом буржуазном городе, где недвижимость стала частью сложной рыночной экономики. Кроме Петербурга и Москвы мало русских городов «доросло» до доходных домов, дворяне, купцы, мещане и ремесленники таких не строят, все останавливается на городских усадьбах и особняках. Здесь же их целый город. Эта часть Саратова скорее напоминает уже Москву вокруг Кузнецкого моста, а не Мещанские улицы.
Третья особенность — саратовские купеческие особняки, и это опять же несколько десятков зданий. Некоторые из них — шедевры, которые достойны украсить любую историю архитектуры. Здесь великолепный по качеству модерн. Главный памятник — это особняк Константина Рейнеке (1909), который приписывается Федору Шехтелю. Он украшен майоликовым фризом, что для России невероятная роскошь. Но не меньшее впечатление производят особняки Эммануила Бореля (1901, Петр Зыбин), Ивана Шмидта (1912, Капитолий Дулин), Александра Скворцова (предположительно 1906-й, архитектор неизвестен). Честно сказать, здесь рассказ о Саратове превращается в адресную книгу, и так его продолжать невозможно, но эти особняки сделали бы честь и Москве, и Вене, и Брюсселю.
Ну и наконец, четвертая интересная черта Саратова — общественные здания. В городе в конце XIX века вырастают все достижения современной городской цивилизации: основанный Алексеем Боголюбовым художественный музей — один из первых в России и богатейший по коллекции (1885, Иван Штром), Театр оперы и балета (1865, Алексей Салько), консерватория (1902, Александр Ягн), Народная аудитория (1899, Николай Проскурнин), детская больница Дарьи Поздеевой (1901, Владимир Владыкин), психиатрическая больница (1910, Владимир Карпенко). Все это закономерно заканчивается основанием и строительством университета (1915, Карл Мюфке). Квартал университета уже совсем трудно соотнести с русским провинциальным городом, это Петербург или Берлин, очень строгий, величественный и отчасти автономный архитектурный ансамбль, университетский городок. Здесь становится понятно, на что опирался Петр Аркадьевич Столыпин, говоривший: «Дайте Государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»
Легко представить себе, как развивался бы этот город, если бы эти 20 лет спокойствия были ему дарованы. Это был бы русский Чикаго, он бы украсился небоскребами, саратовская архитектурная школа прославилась бы на весь мир. Однако заканчивается все это иначе. В Саратове есть одно очень примечательное здание модерна — автогараж Захария Иванова, половину фасада которого занимает огромный барельеф: Меркурий летит над мчащимся по русскому городу с куполами открытому автомобилю с сияющими фарами. В 1925 году Захарий Иванов, бывший автовладелец, спортсмен —занимался ралли на мотоциклах и автомобилях, чемпион Поволжья в велосипедных гонках и экспроприированный эксплуататор, открыл благодаря оставшемуся у него довоенному автомобилю фирму по его прокату, и перед отобранным у него зданием поставил желтый столбик с табличкой «Биржа автомобилей». Ее заметил корреспондент газеты «Гудок» Илья Ильф. Трансформация полного надежд и азарта русского капиталиста с барельефа в Адама Козлевича в их с Евгением Петровым «Золотом теленке» до известной степени демонстрирует характер свершившихся перемен.
Есть довольно много воспоминаний о Саратове между революцией и Великой Отечественной войной. Их собрал, например, известный саратовский краевед Андрей Кумаков — и это горькое повествование. Кажется, что весь блестящий XIX век был каким-то мороком, а на эту землю вернулось то, что и должно было быть — Степан Разин да Емельян Пугачев. По степени озверения революция мало отличалась от крестьянских бунтов, ну и по результатам сопоставима. Внутреннюю колонизацию поглотила злая потаенная Укака. Этот период почти не оставляет материальных следов — только неясная память об ужасе. В отличие от Урала и Сибири здесь нет больших достижения первых пятилеток — только несколько не слишком примечательных конструктивистских зданий. Город будто останавливается в своем развитии. А как апофеоз гибели этой богатейшей экономики, снабжавшей мукой всю Европу, следует катастрофа голода в Поволжье.
Однако нечто интересное происходит во время самой войны и сразу после. В Саратов эвакуируются военные производства. Это дает городу новую, достаточно своеобразную жизнь. Центр перестает развиваться, зато периферия разрастается в десятки раз. До 1990 года Саратов делается «закрытым городом», и это, разумеется, достаточно болезненная трансформация для агломерации, выросшей на транзитной торговле, но это тоже развитие цивилизации, просто по другим координатам. Город как таковой мало кого интересует, он расширяется и застраивается типовым жильем, главное — производство. Урбанисту тут нечего особенно описывать, это скорее тема для экономгеографа, исследующего ставку Госплана на развитие машиностроения и обрабатывающей промышленности в европейской части России и добывающих отраслей за Уралом. К сожалению, после распада СССР это производство — сложное машиностроение, электроника, ракеты — оказалось не так нужно, как хотелось бы. И сегодня вся эта периферия определяется урбанистическими исследованиями экономистов, социологов и антропологов (Саратов, повторю, это город людей с образованием) как «депрессивные районы».
Чего мне по-настоящему жалко — это гибели Саратовского авиационного завода. Это было опорное производство Конструкторского бюро Яковлева, а после Яков здесь еще делали МИГи. Что ни говори, это были изумительные самолеты, одно из высших творений советской инженерной цивилизации. Вообще-то совершенный самолет способен произвести никак не меньшее впечатление, чем особняк эпохи модерна или немецкая мукомольная фабрика: торжество человеческого гения восхищает и там, и там. Чтобы уничтожить такой завод, потерять оборудования, лишить работы тысячи людей высокой квалификации, нужна была бы военная агрессия и несколько дней жесточайших бомбардировок, хотя даже в войну фашистам разбомбить его полностью не удалось. Но теперь справились без этого. Что-то приватизировали, перепродали, станки сдали в металлолом, и все получилось. На месте завода сегодня жилье, ярко выражающее (на мой вкус) идею бездарной жадности девелоперов, а бывший опытный аэродром завода еще стоит пустым, хотя и с более или менее разрушившейся взлетно-посадочной полосой.
Но, замечу, ощущение некоторой депрессии, которое может вызывать город у стороннего наблюдателя, совершенно не свойственно его жителям. Не всем сидеть и предаваться меланхолии на берегу Волги, можно и порадоваться. Город активно благоустраивается, у него прекрасные парки, бульвары, освещение, вывески, наглядная агитация. В нем строится огромное количество жилья. Правда, это лишенные следов архитектурной мысли человейники, всеми силами стремящиеся к центру и на набережную, но зато их много, и из каждого окна видна Волга. Это небогатый город, но все же следы путинских тучных лет в нем налицо, а с началом СВО появились надежды на возрождение военного производства, так что поглядим.
И этот город не лишен благосклонного внимания сильных мира сего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, местный уроженец, очень заботится о Саратове — в этом году нашел миллиард на продолжение благоустройства набережной. Он же обещал возродить Саратовский авиазавод, и даже уже добился отмены сделок по его приватизации (не знаю, что насчет построенного на его месте микрорайона). В Саратове вообще много сделок по приватизации признают теперь незаконными. А на нынешнем ПМЭФ вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о своей поездке в Китай, где он почему-то изучал транспорт. И вот в Китае транспортная иерархия такая — на первом месте река, потом железная дорога, а потом автомобильная. В то время как у нас на первом месте автомобильная, потом железная дороги, а реки вообще нет. В связи с этим он предлагает возродить Волгу. А в Саратове сейчас нет даже грузового порта. Но Марат Шакирзянович родом из Казани, Волга ему не чужая, так что, может, и получится. Может, Саратов еще полетит и поплывет.